Введение в цифровую графику
превращение одних существ или предметов
Приложение 2.
Графические метаморфозы
Метаморфозы — превращение одних существ или предметов в другие.
Энциклопедия
Графическое мышление
Действительность обретает смысл и существование лишь в соприкосновении
с художником. Юрий Нагибин
Одной из важнейших составляющих обучения дизайну является выявление у тех лиц, которые обладают к тому склонностью, или формирование у тех лиц, которые начинают с нуля, некоего специфического образа мыслей и чувствований, который можно интегрированио назвать "графическим мышлением". Такое мышление сродни "слуху" у музыкантов, "чувству слова" у поэтов и т. д.
Следует сразу оговориться, что однозначное и полное определение "графического мышления" дать, видимо, никому не удастся. Можно только сказать, что это — сложное многоуровневое явление, включающее массу самых разных компонентов.
Но суть, на наш взгляд, состоит в том, что человек, обладающий графическим мышлением, воспринимает практически всю визуальную информацию не просто содержательно (так рассматривает неискушенный зритель: он регистрирует только то, что изображено), а сложным образом, сочетая два аспекта: формальный (обнаруживая глубокое понимание и чувство соотношения форм, цветов и освещения) и образно-метафорический (обнаруживая глубокое чувство и понимание дополнительного эстетического содержания). Нельзя представлять дело таким образом, что существует какой-либо формальный уровень или раз и навсегда достигнутое состояние графического мышления, это всегда бесконечный процесс.
И для того чтобы дать толчок началу и дальнейшему развитию этого процесса, существуют разнообразные упражнения. Их общей задачей является "игра" с формой и содержанием. Причем наиболее остро эта "игра" происходит в том случае, если форму и содержание "столкнуть" в некотором противоречии друг с другом, поставить в непривычные рамки, заставить меняться своими соотношениями (пропорциями того и другого), доводя до крайности то "содержание" (его полное исчезновение с обывательской точки зрения), то "форму" (ее полное исчезновение в красивых пятнах, линиях и точках). (В этом, конечно, существует определенная опасность появления "формалистического" цинизма, когда считают задачу выполненной, если найдены некие формальные красивости при полном пренебрежении к содержанию.)
Одним из упражнений, направленных на формирование графического мышления, является задание "Метаморфозы", которое предлагают своим студентам известные санкт-петербургские дизайнеры и педагоги Константин Григорьевич Старцев и Тамара Венедиктовна Левандовская.
В данной статье представлены работы их студентов, которые обучаются по программе "Графический дизайн" на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета (директор программы — Ксения Григорьевна Позднякова, магистр искусствоведения).
Суть задания
Вся работа поэтических школ сводится к накоплению и выявлению новых приемов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше к расположению образов, чем к созданию их.
Виктор Шкловский
Суть задания заключается в следующем. Студентам предлагается взять какой-нибудь достаточно обычный предмет (булавка, очки или ножницы), который обладает ярко выраженной и характерной формой и совершенно определенным бытовым назначением. Чем привычнее предмет, тем лучше. Затем такой предмет, а точнее сказать, даже не предмет (как объект, существующий в реальности), а его графическое изображение, его графический образ, необходимо переосмыслить таким образом, чтобы он приобрел парадоксальную (противоречивую) форму с точки зрения реального существования предмета, но был непротиворечив с точки зрения графического решения.
Например, у лезвий ножниц не может быть шнуровки (это ведь не ботинки и не ворот спортивной майки), но разве не провоцирует треугольный раствор ножниц на такое решение? И разве графически это не создает формы, материала, пространства? Такое решение, которое встречается у нескольких студентов, не противоречит никаким законам и приемам изобразительности.
Разумеется, такое задание балансирует на грани "здравого смысла", и скорее, за гранью, но это является непременным условием творческого мышления — видеть за привычными или просто существующими объектами (а других просто нет) не только их внешний облик, но и сочетание как формального, так и поэтическое содержания.
Кроме того, у этого задания есть и побочные, но очень важные составляющие: снять внутренние "зажимы", выработать невербальный язык, развить воображение и фантазирование, дать возможность проявить импровизационные способности, почувствовать, как связаны "контекст" и "подтекст". В совокупности это может помочь осознать и выработать собственный графический язык и творческий почерк.
Острые метаморфозы острых предметов
Все персонажи и места действия в этой книге реальны: они сделаны из слов.
Реймонд Федерман
Принципиальной установкой является выбор самых известных и банальных предметов, обращение со многими из которых вошло в привычку и может происходить на уровне фонового сознания, например ножницы. Однако задача дизайнера состоит в том, чтобы увидеть необычные (парадоксальные) графические свойства предмета. И в результате признать предмет реальным, таким, как он нарисован.
Ножницы
В основе формальный метод прост.
Возвращение к мастерству.
Виктор Шкловский
Русская загадка ("два конца, два кольца") вскрывает основную конструктивную особенность предмета, но ножницы имеют весьма глубокие и разнообразные графические смыслы: это и особая пластика, и подвижность элементов, динамическая симметричность устройства. Естественно, что у ножниц большое смысловое поле для игры парадоксов.
Ножницы Екатерины Гуссар (рис. П2.1) — это отказ от тонкой и жесткой металлической конструкции, это ножницы в тумане или сквозь декоративное ребристое стекло. Это уже не прагматичный предмет обихода, в котором ценится, например, острота лезвий, а, наоборот, некий неясный образ. Парадокс как раз и строится на контрасте предельно жесткой и ясной конкретности вещи и нежесткого и размытого представления о ней. Графическое решение точно и лаконично.
П2.1. Работа Екатерины Гуссар
Рис. П2.1. Работа Екатерины Гуссар

Другое решение и другой принцип предлагает Анастасия Фалдина (рис. П2.2). Здесь раствор ножниц навел на ассоциацию с разворотом блузки или спортивной майки. Осталось только лаконичными графическими средствами эту ассоциацию выразить, и автору данного рисунка удалось связать два предмета за счет шнуровки.
П2.2. Работа Анастасии Фалдиной
Рис. П2.2. Работа Анастасии Фалдиной
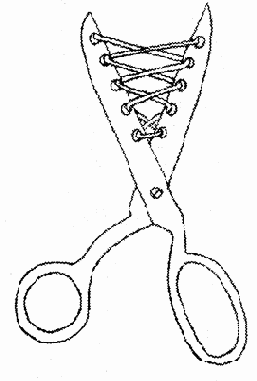
В этом же ключе решена задача в работе Игоря Болотова (рис. П2.3), но это как бы уже другое историческое время. Если у Анастасии чувствуются естественные материалы (ткань, тяжелый шнурок) и ручная работа, то в этой работе сквозят современные материалы (металлическая "молния") и жесткое техническое исполнение.
П2.3. Работа Игоря Болотова
Рис. П2.3. Работа Игоря Болотова
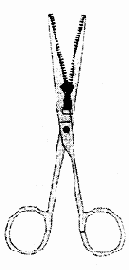
Метафора "ножек", с чем ассоциативно рифмуется слово "ножницы", хотя на самом деле происходит от слова "нож", видимо, навела на мысль Людмилу Брагоренко (рис. П2.4) визуализировать ассоциативное значение и соединить изображение девушки и части ножниц, получив довольно рискованное, но и в то же время очень интересное по смыслу единство. Хотя, возможно, что исходная идея имела другие корни: просто в растворе ножниц действительно можно угадать стройные ножки девушки, которых, впрочем, по уверению Александра Сергеевича Пушкина не так много на Руси.
П2.4. Работа Людмилы Брагоренко
Рис. П2.4. Работа Людмилы Брагоренко

Еще одним плодотворным способом создания метафор является соединение инструмента и результата его работы, как это использовала Александра Фалдина (рис. П2.5). Ее ножницы — это уже скорее результат, а именно образец искусства оригами -- произведение, которое создается с помощью ножниц, бумаги и фантазии.
П2.5. Работа Александры Фалдиной
Рис. П2.5. Работа Александры Фалдиной
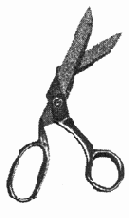
Совсем иной парадокс использовала Светлана Самохвалова (рис. П2.6), работа которой поражает изящной простотой замысла и исполнения. Действительно, соединив две ножки двух зеркально расположенных ножниц, художница получила замечательную и формально устойчивую конструкцию: горизонтальная планка, которая заканчивается с двух сторон направленными в разные стороны кольцами. Эту горизонтальную основу пересекают две параллельные свободные ножки.
П2.6. Работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.6. Работа Светланы Самохваловой
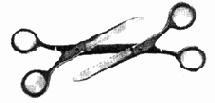
Кстати, изображение ножниц студенты используют и для других заданий. Например, Татьяна Баранова тему "Контрасты" как раз решила через проти-
вопоставление различных ножниц. Причем, в одном случае (рис. П2.7) это — грубый мужлан перед группой изящных и сложно организованных персонажей, а в другом (рис. П2.8) — наоборот, один тонкий индивидуум заслоняется массивными и по виду наивными и простодушными представителями, может быть, сельской местности. Кстати, стоит обратить внимание: как замечательно работает "пустое пространство".
П2.7. Первая работа Татьяны Барановой
Рис. П2.7. Первая работа Татьяны Барановой
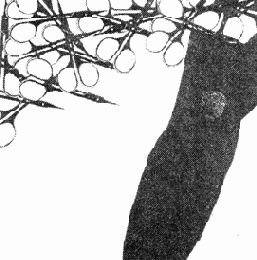
П2.8. Вторая работа Татьяны Барановой
Рис. П2.8. Вторая работа Татьяны Барановой

Ножовка
Мысли, входящие в произведение, — материал, их взаимоотношение — форма.
Виктор Шкловский
Другим инструментом, который стал поводом для парадоксальных графических построений (метаморфоз), послужила ручная пила, в просторечии называемая "ножовкой". Кстати, здесь та же основа слова, что и у ножниц.
Первой "зацепкой" в этом инструменте являются зубцы, на основе которых Анастасия Фалдина построила две работы.
Одна работа (рис. П2.9) — в духе типичной метонимии (переноса значения с одного предмета на другой), а именно металлические зубцы заменены на биологические, может быть, даже человеческие.
П2.9. Первая работа Анастасии Фалдиной
Рис. П2.9. Первая работа Анастасии Фалдиной
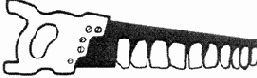
Другая работа (рис. П2.10) — в духе типичного абсурда (доведение идеи до логического конца), а именно количественное значение уменьшено до минимума (принципиально такое возможно, но практически бесполезно).
П2.11. Первая работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.11. Первая работа Светланы Самохваловой
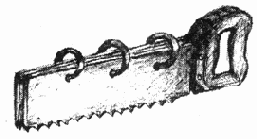
Эта плодотворная идея у Светланы решена и другим, более изящным способом (рис. П2.12), полотна скрепляются, как листы современного настенного календаря, можно сказать: "Каждому времени — своя пила".
П2.12. Вторая работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.12. Вторая работа Светланы Самохваловой
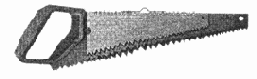
Светлана предложила и другие варианты. Один из них (рис. П2.13) относится к области абсурда: ручка имеется, но прикреплена довольно необычным способом (она как бы обволакивает полотно). Художница, в самом деле, прониклась пластикой инструмента, поэтому как раз пластически такой вид не кажется чуждым.
П2.13. Третья работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.13. Третья работа Светланы Самохваловой
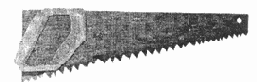
Другой вариант (рис. П2.14) рождает зооморфные ассоциации: это некая пасть животного с двумя рядами острых и безжалостных зубов. Да и ручка создает впечатление какой-то смышленой мордочки. Стоит обратить внимание на различие в пластике у двух последних рисунков (жесткий и лаконичный — в первом случае и свободный мультипликационный — во втором).
П2.14. Четвертая работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.14. Четвертая работа Светланы Самохваловой
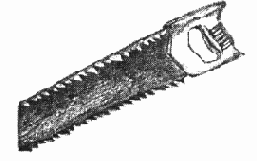
И совсем необычное пластическое решение предлагает Людмила Брагорен-ко, которая соединила в одну конструкцию, казалось бы, несоединимые вещи: острую, жесткую, металлическую ножовку и мягкий, размытый и резиновый сапог (рис. П2.15).
П2.15. Работа Людмилы Брагоренко
Рис. П2.15. Работа Людмилы Брагоренко
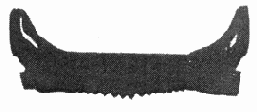
Булавка
Искусство и жизнь не связаны функционально.
То есть нельзя установить в каждой любой точке искусства его зависимость от жизни.
Виктор Шкловский
В качестве объекта для превращений применялся еще один острый предмет — булавка, но не лаконичная французская (как буква i), а английская, которая представляет собой целый механизм. В самом деле, булавка имеет источник напряжения — пружину, а также стремительный и острый пик и сложной конструкции шляпку, которая в состоянии "укрощать" неуемный и опасный темперамент острого пика. Так иногда в семье: спокойная и массивная жена легко держит в руках резкого и вспыльчивого мужа.
Вот эти особенности предмета, а также его графическая характерность вызывают массу графических ассоциаций.
Рисунок Сони Насоновой (рис. П2.16) строится на устранении острого пика и замене его цепью. Это очень остроумное решение.
П2.16. Работа Сони Насоновой
Рис. П2.16. Работа Сони Насоновой
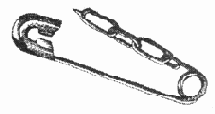
Иначе ту же идею реализует Александра Фалдина (рис. П2.17): у нее острых пиков — три, и какой бы из них ни оказался в тисках, два других не оставят в покое, хотя, конечно, конструктивно это представить трудно. Предыдущий вариант идеален по замыслу, исполнению и художественно-смысловой нагрузке.
П2.17. Первая работа Александры Фалдиной
Рис. П2.17. Первая работа Александры Фалдиной
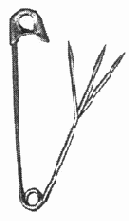
Замечательно решен другой вариант Александры Фалдиной (рис. П2.18): полная неукротимость острого пика, его вряд ли может захватить и удержать шляпка такой булавки.
П2.18. Вторая работа Александры Фалдиной
Рис. П2.18. Вторая работа Александры Фалдиной
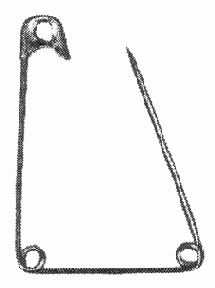
Совершенно иной подход к предмету представлен в сюите Светланы Самохваловой, она не пытается сохранить смысловую целостность предмета, а решает композиционные цели, выявляя его графические "потенциалы", например симметричность и декоративность элементов, которая напрашивается на построение своеобразных орнаментов (рис. П2.19 и П1.20).
П2.19. Первая работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.19. Первая работа Светланы Самохваловой
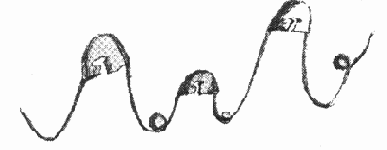
П2.20. Вторая работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.20. Вторая работа Светланы Самохваловой
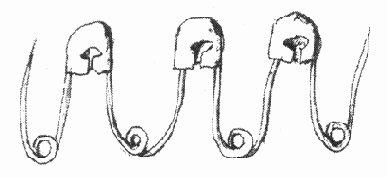
Две другие работы того же автора, наоборот, играют с "функциональностью" предмета. Элегантные добавки, характерные для самого предмета (нисколько не кажется, что они чуждые предмету, а вполне "родные") тем не менее изменяют или даже разрушают его предназначение. В одном случае (рис. П2.21) — обманчивая свобода иголок, а в другом (рис. П2.22) -полная обездвиженность (очень напоминает некий костыль) абсолютно "безопасной" булавки.
П2.21. Третья работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.21. Третья работа Светланы Самохваловой
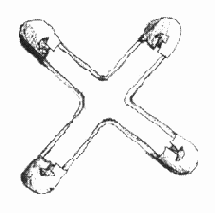
П2.22. Четвертая работа Светланы Самохваловой
Рис. П2.22. Четвертая работа Светланы Самохваловой
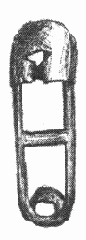
Такую же обездвиженность "обеспечила" своей булавке и Евгения Балыкина, но это довольно опасный вариант, поскольку обе иголки торчат в боевом состоянии (рис. П2.23). Впрочем, возможно и сугубо техническое решение: шляпка перемещается по иголкам как по направляющим.
Работа Александры Фалдиной (рис. П2.24) строится на том, что воплощает пословицу "Шила в мешке не утаишь". Острый конец булавки рано или поздно преодолеет все препятствия и явит миру свою суть. Это довольно символический знак для творческого человека, не чуждого сатирических или саркастических наклонностей. А может быть, это просто символ неискоренимо честного человека.
П2.23. Работа Евгении Балыкиной
Рис. П2.23. Работа Евгении Балыкиной
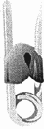
П2.24. Работа Александры Фалдиной
Рис. П2.24. Работа Александры Фалдиной

Заключение
Искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно.
Виктор Шкловский
Взгляд художника — это особая точка зрения, иногда ему удается посмотреть на мир другими глазами, и мир открывается невиданными свойствами. Например, великий перелом в цветовом представлении совершили импрессионисты, которые, еще не утратив предметности и не уйдя в формальные крайности, с великим упоением и восторгом переживали и пытались передать на холсте окружающее их световое и цветовое пространство.
Такие вехи случаются не часто, и никакое обучение никогда не ориентировано на это, более того, как раз такие события происходили вопреки существующим канонам обучения, и только спустя определенный исторический период они попадали в область, которая их принципиально отвергала.
В связи с этим, на учителе, педагоге лежит громадная ответственность. И она состоит не столько в том, чтобы научить определенной сумме навыков, а в том, чтобы не помешать, не сломать своим авторитетом ростки оригинальности. А оригинальность — это всегда противоречие, ее почва -противопоставление, а результат — парадоксальность.
Следовательно, одной из задач обучения является формирование или выявление парадоксальности графического материала. Насколько это удается конкретным студентам — судить зрителю и читателю.
П3.10. Вторая работа Анастасии Фалдиной
Рис. П3.10. Вторая работа Анастасии Фалдиной

Светлана Самохвалова (рис. П2.11) также увидела в полотне ножовки несколько парадоксальных идей. Например, страницу блокнота, а отсюда один шаг до решения — соединить несколько полотен и связать их, как это принято в блокнотах, следовательно, возможней такой подтекст — перебирать нужные полотна, а, может быть, и вовсе отрывать использованные полотна, как исписанный лист блокнота.